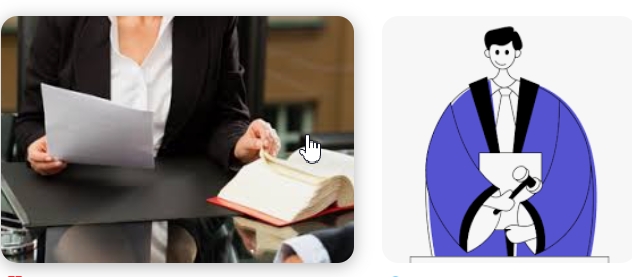У кого из чиновников отберут деньги, а кого пожалеют
Новая инициатива Минюста России на ниве борьбы с коррупцией позволит в скором времени не только обращать в доход государства имущество нечистых на руку чиновников, но и списывать с их счетов денежные средства, легальность получения которых не подтверждена. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается в ведомстве в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы.
Как пояснили в пресс-службе министерства, новые законодательные инициативы затронут тех, кто обязан ежегодно подавать декларации о доходах, в том числе лиц на государственных и муниципальных должностях, а также работающих в госкорпорациях, Центробанке, Пенсионном фонде и других организациях.
Как будет работать механизм изъятия денежных средств, еще не совсем понятно. Но, видимо, по аналогии с правоприменительной практикой закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», действующего в стране с января 2013 года.
Он позволяет Генпрокуратуре подавать иски в суд для обращения в доход государства имущества (недвижимость, земельные участки, машины) и ценных бумаг чиновников, если нет подтверждения законности покупки, и её стоимость превышает официальный доход семьи госслужащего за предыдущие три месяца.
Выступая 29 мая на «Правительственном часе» в Госдуме, генпрокурор РФ Юрий Чайка отметил, что с 2016 года сотрудники его ведомства направили в суды несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25 млрд. рублей. Удовлетворены из них на данный момент иски на 11,5 млрд. рублей.
Например, у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя нашли незаконное имущество на 9 млрд. рублей.
А у экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна — на 10,5 млрд.
, в том числе, более 770 объектов недвижимости, а также 43 единицы дорогостоящих транспортных средств престижных марок Mercedes, Audi, Lexus, Toyota, Land Rover — автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов.
И это всего лишь у двух чиновников, так сказать, местного уровня…
Идею Минюста об изъятии денежных средств у госслужащих, не доказавших законность их получения, уже поддержал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, «такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией».
Он также дал поручение профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию.
Прокомментировать инициативу Минюста «СП» попросила известного адвокатаВиолетту Волкову:
— Надо сказать, что у нас все антикоррупционное законодательство проходит, как правило, стадии эволюционирования. И, к сожалению, эволюционирует очень долго.
В общем, как только начинается борьба с коррупцией, сначала идут определенные слушания. Потом мы имеем дело с правоприменением тех законов, которые имеют место быть. И после этого становятся понятны «белые пятна» — т.е., где законодатель не увидел определенных проблем, а эти проблемы нашли правоприменители. После этого закон корректируется.
Вот то, что сейчас корректируют новый законопроект, это как раз те самые «белые пятна», через которые очень тяжело пройти правоприменителям.
То, что наше антикоррупционное законодательство эволюционирует, это хорошо. Другое дело, что оно пока не закрывает всех «белых пятен».
«СП»: — А зачем такие сложности? Почему бы не ввести, как это было в СССР, полную конфискацию у всех членов семьи коррупционера, что, наверное, было бы намного эффективней?
— Нельзя проводить полную конфискацию имущества. Человек имеет возможность, например, иметь длительное время какой-то доход или копить какие-то денежные средства. У него есть, допустим, семья.
Да, эти члены семьи могут иметь и некий, скажем так, несанкционированный доход… Но, понимаете, это уже не будет коррупционным преступлением, и это должно иметь, как я думаю, какие-то другие последствия. Возможно возбуждение уголовных дел.
Но это могут быть налоговые правонарушения, которые влекут за собой совершенно иной подход к правонарушителям.
Но, в любом случае, предлагаемая мера мне кажется правильной, и она, конечно, поможет более эффективно бороться с коррупцией. Правда, с ней мы немного запоздали.
«СП»: — А что мешало сделать это раньше?
— Наш закон, к сожалению, меняется недостаточно быстро. Поэтому с правоприменительной практикой случаются определенные проблемы.
У нас, например, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, не имеет обратной силы и действует с того момента, когда он принят. Соответственно, новая норма изъятия не будет распространяться на те денежные средства, которые образовались на счетах (условного) коррупционера до момента принятия этой нормы.
То есть, можно сказать, поправки к закону принимается всегда несвоевременно. Они принимается постфактум — после того, как были выявлены проблемы с применением. Зато в будущем действие уточненного закона уже будет охватывать все сферы правоотношений, которые в нем указаны.
Иначе говоря, проблемы, которые сегодня есть, их уже не разрешить. Но аналогичные случаи на будущее будут решены в соответствии с этим законом.
«СП»: — Насколько известно, полковник Захарченко хранил свои «накопления» — 9 млрд. рублей — у сестры и прочих родственников, и почему-то за три года источник этих денег так и не был установлен. А он разве не должен был объяснить их происхождение?
— Насколько мне известно, мы не присоединились к 20-й статье конвенции о противодействии коррупции. Поэтому говорить о том, что Захарченко что-то должен или не должен, не представляется возможным.
Но указанные денежные средства не могли являться его доходом. Его доход вычисляется очень легко на основании справок НДФЛ-2 и, возможно, НДФЛ-3, если таковые имеются. Все.
Справки и документы, которые легли в материалы дела, они говорят как раз о том фактическом доходе, который у него мог быть.
Все его родственники от указанных денег открестились. Сам он объяснить их происхождение не смог (или не захотел). Потому учитывая, что деньги лежали не на счетах — помните, они там «россыпью» лежали, лежали в сумках, коробках — соответственно, к ним и был применен закон об изъятии.
Но если бы эти деньги, например, находились на банковских счетах? Вот тут у нас как раз начинается этот самый «затык», который сейчас разрешается новым законом.
То есть, в этом случае правоохранители уже понимают, как им действовать дальше, и смогут по решению суда списывать со счетов коррупционеров нелегальные средства.
Заместитель гендиректора Центра политической информации Алексей Панин, в свою очередь, не уверен, что предложенная мера позволит вывести борьбу с коррупцией на новый уровень:
— На самом деле, инициатива Минюста больше техническая. И, вероятней всего, она инспирирована последней правоприменительной практикой, когда по тем или иным, в том числе, резонансным делам (взять, к примеру, дело Захарченко) приходилось преодолевать какие-то совершенно необязательные препоны для того, чтобы обратить, очевидно, незаконным путем приобретённое имущество в доход государства.
В данном случае, я думаю, такое уточнение необходимо для пуско-наладки именно этого механизма — оно трактует, грубо говоря, как это должно происходить.
Схема обычная. У вас есть закон, вы его применяете, вы видите, что на практике получается не так, как предполагалось… Вы принимаете определенные поправки для того, чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций.
Но это не революционная мера, которая тут же сразу позволит борьбу с коррупцией в стране вынести на какой-то новый уровень. Условно говоря, это еще одна «тонкая книжица» на полочку нормативно правовых актов, которые позволяют борьбу с коррупцией осуществлять.
Речь ведь не идет о бедном чиновнике с богатой женой, которые вместе заработали 500 млн. рублей, и у вас возникают вопросы к этому. Раз недекларируемая жена заработала эти средства, соответственно, все в порядке.
Вот если у них есть незадекларированное имущество и его значительно больше, чем доходов, то только в этом случае механизм изъятия будет применяться.
В случае с бедным чиновником и богатой женой, это применяться, совершенно очевидно, не будет. А вот когда у некоего бедного полковника вдруг обнаруживаются золотые слитки, это работать будет.
Но не стоит ожидать, что сейчас все повально начнут проверять законность доходов богатых членов семей госслужащих. Такого не будет, потому что сам законопроект этого не предусматривает.
Борьба с коррупцией: Ингушетию скоро «зачистят» по полной
Новости правосудия: «Это шутка???», — Владимир Соловьёв прокомментировал приговор полковнику Захарченко
Источник: https://svpressa.ru/economy/article/235545/
Все деньги не отберут: жителям Латвии оставят немного банкнот
Это стандартная практика правящих: сперва испугать или, как сейчас принято говорить, закошмарить население каким—то радикальным решением, а потом… резко от этого решения отказаться. Мол, смертный приговор отменяется, поживите еще пока…
И вроде уже народ даже начинает о власти думать лучше, даже благодарить за спасение.
Три тысячи на всё
Подобное поведение мы имеем возможность наблюдать в эти дни. Напомним, что совсем недавно правительство одобрило радикальное сокращение операций с наличными.
Если до сего дня можно было осуществлять сделки с наличными на сумму до 7200 евро, то впредь власти намеревались ограничить максимальную сделку с наличными до 3000 евро.
Если же физические лица, которые не занимаются хозяйственной деятельностью, осуществляют сделки с недвижимостью или отчуждают (читай — покупают) транспортное средство, то сумма наличными не должна превышать 1500 евро.
Речь фактически шла о полной ликвидации более—менее серьезных покупок за наличные. Однако коалиционный совет на своем последнем заседании передумал принимать подобное радикальное решение. Правящие договорились изъять соответствующие поправки из бюджетного пакета на этапе второго чтения.
Это огромное неудобство
«Предлагаемое решение по резкому ограничению операций с наличными нарушает права латвийцев и создает им огромные неудобства.
Столь существенные ограничения на сделки с наличными — до 3000 евро — нельзя обосновать борьбой с теневой экономикой.
Это уже перебор, и данный шаг не будет эффективным», — убеждены представители Новой консервативной партии (НКП), которые считают, что если где и вводить полностью безналичный расчет, так только со сделками с недвижимостью.
Депутаты сейма от НКП логично подметили, что если ввести подобные ограничения, то Латвия просто проиграет в конкурентной борьбе на рынке автомобилей Литве и Эстонии, где подобных лимитов нет и можно покупать за наличные даже самые дорогие лимузины. Ну а потом, соответственно, эти машины уже будут зарегистрированы в Латвии. Вот вам и вся борьба с теневой экономикой…
Вообще в условиях свободного евросоюзовского рынка и отсутствия границ следует быть очень осторожными в попытках ограничить использование наличных, ведь это приведет к тому, что латвийцы свои большие покупки за наличный расчет будут делать в других странах ЕС, где или вовсе нет лимитов на использование наличных, или они значительно выше, чем в Латвии.
Министр финансов Янис Реирс («Новое Единство») пообещал, что ко второму чтению будет подготовлен компромиссный вариант, который устроит всех заинтересованных лиц.
А как в Старом Свете?
Справедливости ради отметим, что в ряде стран ЕС также действуют ограничения на операции с наличными, причем весьма суровые. Так, в Италии до прошлого года вообще максимальный лимит сделки с наличными составлял 1000 евро. Однако с прошлого года лимит был повышен до 3000 евро.
При этом снимать со своего счета и переводить деньги, например, родственникам посредством почтового перевода можно и на большую сумму. Главное условие — чтобы банки и контролирующие органы могли эту сделку отследить. Аналогичные ограничения сделок с наличными в объеме 3000 евро действуют для налоговых резидентов во Франции и Бельгии.
При этом в Бельгии нельзя за наличные приобретать недвижимость. В Испании максимальный лимит сделок с наличными — 2500 евро.
Куда более гуманные нормы в Словакии и Чехии. В Чехии в течение суток одно физическое лицо не может производить расчеты наличными на сумму свыше 15 тысяч евро.
В Словакии также физические лица не могут осуществлять сделки наличными на сумму, превышающую 15 тысяч евро. В Венгрии максимальный размер сделок с наличными — 5000 евро.
В Германии же, например, пока никаких ограничений на операции с наличными нет.
Если же мы посмотрим на соседние с Латвией страны, которые не входят в ЕС, то в России нет ограничений на сделки с наличными между физическими лицами. Зато юридические лица между собой не могут осуществлять сделки с наличными на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Потребительские сделки в Белоруссии за наличные возможны на сумму до 23 тысяч белорусских рублей.
Под колпаком
Цель всех этих ограничений на сделки с наличными понятна — максимально контролировать доходы и расходы населения и одновременно уменьшить оборот наличных средств. Ведь там, где наличные, там всегда есть риск теневой экономики.
Впрочем, в нашей стране, как мы знаем, под контроль взяты и все безналичные расчеты. Тайна банковских вкладов ушла в прошлое, и теперь банки обязаны сообщать фискальному ведомству о всех сделках на счетах, которые достигают 15 тысяч евро.
Также, напомним, еще с 2017 года происходит обмен информацией о счетах граждан ЕС в банках стран ЕС.
Иными словами, если вы, будучи гражданином Латвии, открыли счет в Болгарии или Франции, то об этом очень скоро станет известно нашей Службе госдоходов — она получит соответствующее уведомление.
Те, кто пытался в банке снять относительно большие суммы денег со своего личного счета, уже заметили, что банки выдают деньги лишь после того, как вы заполните специальную анкету—форму, в которой укажете, а вообще откуда у вас эти деньги.
И это несмотря на то, что они лежат на вашем счету, причем, возможно, уже не один год. Напомним, что сейчас правящие хотят ввести принцип легальной презумпции, когда вы будете обязаны сами доказать легальность происхождения ваших денежных средств.
Если не сумеете, то вас ждет конфискация денег.
Власти ЛР пытаются поставить под контроль любые попытки латвийцев дополнительно заработать. Так, скоро снять (и соответственно — сдать) квартиру можно будет только на основании договора, зарегистрированного в Земельной книге. Понятно, что после этого арендодателю уже не удастся уйти от оплаты 20—процентного налога за сдачу квартиры (дома) в аренду.
Абик ЭЛКИН.
Источник: https://bb.lv/statja/politika/2019/03/21/vse-dengi-ne-otberut-zhitelyam-latvii-ostavyat-nemnogo-banknot
Не Корея: почему российским судостроителям нет смысла экономить деньги :: С.-Петербург :: РБК
— Как вообще возникла такая ситуация, что завод хронически испытывает финансовые проблемы?
— Эта сумма — 2,5 млрд руб. — возникла из-за того, что у нас все время не хватает оборотных средств. В частности, проблема заключается в том, что сейчас у ВСЗ много заказов.
— Вообще-то наличие заказов должно обеспечивать финансовую стабильность предприятию.
— Ситуация, когда у завода была небольшая загрузка и он строил два-три судна одновременно, была в 2013-14 годах. Сейчас одновременно мы строим семь судов, и для их строительства нам требуется больше средств, чем пять лет назад.
Около двух лет назад мы просили в одном из госбанков кредит 2 млрд руб. на пополнение оборотных средств. Тогда нам отказали, мотивируя отказ тем, что у ВСЗ плохая финансовая ситуация — завод регулярно показывает убытки. Кредит мы так и не получили. Сейчас вопрос о предоставлении нам займа рассматривает другой банк. Если кредитная линия будет одобрена, это будет большой поддержкой для ВСЗ.
— Может быть, часть авансов направлять на погашение кассовых разрывов?
— Казалось бы, такая возможность есть. Но проблема в том, что заказчик строго следит за целевым расходованием средств, то есть за тем, чтобы средства из аванса мы направляли на выполнение заказа, под который и получили деньги. А у нас в работе, как я уже сказал — семь судов.
БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС
— Такие финансовые сложности есть только у вашего предприятия или они типичны для отрасли?
— Все судостроительные предприятия сильно закредитованы. Но при этом их финансовое состояние различается. Например, большинство заводов, которые перешли в ОСК от частных собственников — ВСЗ, Северная верфь, Балтийский завод, Амурский завод, «Янтарь» — испытывают значительные финансовые сложности.
В то же время, состояние заводов, которые всегда были государственными — Адмиралтейских верфей, Севмаша, «Звездочки», Средне-Невского судостроительного завода — несколько лучше. Это объясняется тем, что у государственных верфей с 2000-х годов были довольно большие объемы работ по гособоронзаказу.
Когда же ОСК приобрела частные заводы (этот процесс длился примерно с 2009 по 2012 год), она получила их со старыми долгами, которые образовались еще при бывших владельцах. И эти долги никто не отменял. И все заводы так или иначе отвлекают серьезные средства на уплату процентов по кредитам, а без кредитов не прожить.
Когда ОСК приобрела частные заводы, она получила их со старыми долгами, которые образовались еще при бывших владельцах. И эти долги никто не отменял.
— Но вы сказали, что у вашего предприятия, например, есть много заказов. Разве прибыль от строительства судов не позволяет погашать обязательства?
— Прибыльность в военном судостроении составляет 5-7%, поэтому обслуживать кредиты, которые брались под 10-11%, довольно сложно. Это приводит к тому, что в год у предприятия образуется долг в 3-4%, и это бесконечный процесс.
— И что делать в такой ситуации? Существует ли какой-то вариант финансового оздоровления отрасли?
— Единственный вариант оздоровления предприятий отрасли — погасить долги за счет федерального бюджета, проведя докапитализацию предприятий, у которых наиболее сложное финансовое положение.
ИМИДЖ И СТАТУС
— Эта история напоминает АвтоВАЗ до его покупки компанией Renault. Но зачем государству отрасль, если она не может себя окупать и требует бюджетных дотаций?
— Я бы сказал, что судостроение не нужно постиндустриальным странам, где основные источники благосостояния перетекли из промышленности в сферу финансовых услуг и высоких технологий.
Например, так живут Швеция, Великобритания. В этих странах судостроение умерло в 80-90-е годы прошлого века, и власти этих стран решили не возрождать эту отрасль.
Сейчас им проще и удобней закупить суда за границей.
Что касается индустриальных стран, таких, как Россия, Южная Корея, Китай, то им, как правило, важно развивать судостроение. Ведь эта отрасль обеспечивает обороноспособность страны, а также формирует ее имидж. Для России важен статус военно-морской державы, и тут без судостроения не обойтись.
Мы не можем полагаться в вопросах формирования военно-морского флота на другие страны.
Кроме того, судостроение — это потребитель и драйвер огромного сегмента экономики, который обеспечивает развитие ряда отраслей — от металлургии и тяжелого машиностроения до производства электронных компонентов и программного обеспечения.
Для России важен статус военно-морской державы, и тут без судостроения не обойтись. Мы не можем полагаться в вопросах формирования военно-морского флота на другие страны.
— В других индустриальных странах судостроение тоже не очень прибыльно? Нуждается ли оно в господдержке?
— Да, насколько я знаю, в Южной Корее во время мировых кризисов в судостроении государство погашает убытки предприятий.
Некоторые страны, например, Испания, субсидируют процентные ставки по кредитам для предприятий, которые поставляют суда на экспорт. У нас пока нет четкой госполитики по поддержке судостроения.
В принципе это тоже могло бы быть погашение процентных ставок по кредитам и другие виды субсидий.
НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ
— Если говорить о системной господдержке отрасли, то обсуждался ли в России вопрос предоставления льготных кредитов судостроителям?
— Иногда он обсуждается, но по факту никаких льготных займов у судостроителей нет. Есть госгарантии под исполнение гособоронзаказа. Как это выглядит? Например, Минобороны заказывает на верфи подводную лодку с учетом того, что прибыльность проекта составит те самые 5-7%, о которых я говорил.
Денег государство на строительство лодки не выделяет, но обещает дать госгарантии по кредиту в коммерческом банке. Завод получает кредит, поскольку госгарантии — это хорошее обеспечение. Начинается строительство подлодки, накапливается некоторое количество сделанных работ.
После этого государство раскрывает госгарантии и возвращает банку кредит с учетом всех процентов. То есть, по сути, за предприятие в банке расплачивается государство. С одной стороны, такая схема облегчает жизнь предприятиям, которые работают по гособоронзаказу.
С другой стороны, это не улучшает финансовое положение предприятий, потому что у них по-прежнему нет средств на развитие, то есть прибыль слишком мала, чтобы пустить ее на развитие.
Есть еще и такая деталь: если исполнитель сэкономил какую-либо сумму, например, ужал поставщиков и смог построить объект дешевле, чем было обговорено в контракте, сэкономленные средства государство забирает себе. Таковы правила. И отсюда — такие высокие цены в военном кораблестроении: предприятиям нет никакого смысла экономить, потому что сэкономленные средства все равно придется вернуть государству.
Предприятиям нет смысла экономить, потому что сэкономленные средства все равно придется вернуть государству.
— Из чего складывается 5-7% прибыли, о которых вы говорили?
— Есть формула 1/20%, где 1% — это норма прибыли привлеченных работ, а 20% — это норма прибыли при собственных работах верфи.
Привлеченные работы — это то, что делают подрядчики судостроительного завода: арматура, судовое оборудование, металл, навигационное оборудование. Собственные работы верфи — это то, что делается непосредственно на ней: постройка судна и так далее.
При этом в структуре себестоимости любого судна собственные работы верфи составляют 30%, а привлеченные — 70%. Если сложить прибыль привлеченных и собственных работ, в итоге получаются те самые 5-7%.
НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО ВЕКА
— Переход в сферу гражданского судостроения мог бы решить проблему? Какова там норма прибыли?
— Там ее не ограничивают, любой заказчик скажет: «Мне все равно, сколько вы заработаете на заказе — хоть 60%. Но такое судно, например, в Корее стоит столько-то, и нужно ориентироваться на эту цену». Иными словами, все решает конкуренция.
При этом в Турции, Румынии, Сингапуре и Китае гражданские суда, например, рыболовецкие, на 15-20% дешевле аналогичных объектов, построенных в России.
— Почему?
— В других странах судостроители могут экономить за счет собственных работ, они получаются примерно на 30-40% дешевле, чем в России.
— За счет чего получается экономия?
— Как бы банально это ни звучало, играют роль климатические условия — в Турции, Испании, Румынии и Сингапуре теплее, чем в России, и это важно. Там нет таких больших затрат на отопление и вентиляцию, как у нас, меньше затраты на капстроительство. Достаточно построить каркас из металлического профиля и настелить крышу.
Но есть и другой важный момент. Российские верфи, построенные в 50-70-е годы прошлого века, изначально строились как предприятия полного цикла, с учетом того, что каждое предприятие должно было быть самодостаточным и делать все, условно говоря, от изготовления литья до сборочного процесса.
Современные иностранные верфи — более компактные.
И если у Выборгского судостроительного завода территория занимает 45 га, то у какой-нибудь зарубежной верфи территория — всего 7 га, а производственные мощности — такие же, как у ВСЗ (в том числе, за счет четкой организации производственного процесса и отсутствия непрофильных площадей и подразделений). Как минимум, обслуживать меньшую территорию дешевле, меньше накладных расходов, нет затрат на логистику. Нет затрат на обслуживание складов, потому что самих складов нет. Сотрудники, например, турецкой верфи могут выйти за ворота, и рядом с ними — производители-поставщики нужного им оборудования, которое можно очень быстро купить, а не проводить, как в России, несколько тендеров для закупок нужных деталей. Наличие поставщика «за углом», у которого можно быстро закупить детали, сокращает издержки и сроки строительства судна.
Кроме того, иностранные верфи работают только как сборочные производства, в отличие от наших заводов. И в целом получается, что на зарубежных верфях загрузка предприятия намного выше, чем у российских судостроителей.
Иностранные верфи работают только как сборочные производства, в отличие от наших заводов.
— Смогут ли российские верфи в нынешнем виде стать такими же эффективными, как зарубежные? И можно ли как-то повысить их эффективность?
— Нет, до такого уровня мы не дойдем, потому что у нас другой принцип работы — полного цикла. Тем не менее, у нас есть пути для развития. Один вариант — экстенсивный, то есть увеличить объемы производства, но для этого надо иметь достаточно мощностей.
— Но у нас же их много.
— Нет, их не хватает! Мы с этим столкнулись, получив заказы от рыболовецких компаний. Верфи не справляются с таким большим объемом заказов.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
— Тогда как можно поднять эффективность верфей?
— Нужно повышать производительность труда. Тут два варианта — внедрять концепцию бережливого производства и развивать производственную кооперацию.
— Такая система была придумана компанией Toyota. Что такое бережливое производство в случае с ВСЗ?
— Это оптимизация бизнес-процессов и устранение всех видов потерь; эту работу мы ведем совместно с ОСК. Уже разработана концепция развития производственной системы предприятия до 2021 года. Ее применение позволит уменьшить риски невыполнения плановых сроков, сократить длительность стапельной сборки.
Достичь большей эффективности мы можем, например, оптимизировав доставку различных деталей из сборочного цеха к судам, которые находятся на достройке. Организовав отдельный сборочный участок рядом с причальной стенкой, где стоят суда, мы сократили время доставки деталей из цеха к причалам примерно на час.
— Какие есть еще способы сделать верфи более производительными и эффективными?
— У ОСК есть концепция создания распределенной верфи. Она предполагает, что между заводами, расположенными недалеко друг от друга, распределяются определенные объемы работ. Например, на ВСЗ — постоянные проблемы с загрузкой заготовительных участков, то есть линии первичной обработки металла — 30 тыс. т в год.
А, допустим, на «Янтаре» мощностей по первичной обработке металла не хватает. И какую-то часть работ по обработке металла мы можем делать, а затем отвозить продукцию на «Янтарь». А на Балтзаводе, например, может быть избыток мощностей по производству секций, и часть продукции можно поставлять в Выборг.
То есть верфи могут выступать друг у друга как подрядчики. Создание распределенной верфи в СЗФО — это то, что лежит на поверхности, ведь в нашем регионе сосредоточено более 50% российского судостроительного комплекса.
Распределенная верфь теоретически также может появиться на Волге, в Астраханской области, (здесь находится около 30% российских верфей) и на Дальнем Востоке.
Распределенная верфь может сократить сроки строительства судов и обеспечить более равномерную загрузку производственных участков на каждом заводе, а также снизить издержки.
— Какова сейчас доля России на мировом рынке судостроения? И может ли она вырасти?
— Менее процента в гражданской сфере и 10-15% — в военном.
Доля в гражданском значительно не вырастет, поскольку даже в лучшие годы, в 70-е годы прошлого века, когда СССР прикладывал сознательные усилия для увеличения доли на рынке, в сегменте гражданского судостроения мы занимали не более 2%.
И сейчас предпосылок для увеличения долей нет. Сейчас есть свои устоявшиеся лидеры, рынок достаточно сильно глобализован, и Россия в этих процессах не особо участвует. Китай в судостроении занимает около 40% в целом.
Справка:
ПАО «Выборгский судостроительный завод» входит в ОСК. Завод был основан в 1948 году и занимается строительство различных судов гражданского назначения: судов ледового класса, судов снабжения, ледоколов, рыболовных траулеров, а также буровых платформ для разработки морских шельфовых месторождений.
Портфель заказов ВСЗ сформирован до 2023 года. Кроме того, завод планирует заказ на строительство до пяти краболовов для «Северо-Западного рыбопромышленного консорциума», а также заказ на строительство двух ледоколов для «Атомфлота».
Екатерина Фомичева
Источник: https://www.rbc.ru/spb_sz/07/08/2019/5d4979439a794727133d3cd3
Те деньги и не те
По словам Владимира Путина, в стране решена проблема с детскими садами: доступность дошкольных учреждений для детей от трех до семи лет обеспечена «практически повсеместно». До конца 2021 года президент рассчитывает добиться таких же успехов с яслями, потратив на это 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.
Главной задачей государства он назвал «всемерную поддержку семей» и очередной виток борьбы за демографию. Добиться возобновления прироста населения решено не позднее 2024 года.
«Важно, чтобы рождение детей не означало для семьи риска бедности, чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства», — сказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«У меня ребят-то не отберут, если узнают, как я живу?» — сомневается мама двоих детей, прежде чем согласиться на разговор. Просит изменить имена и не фотографировать. Это, пожалуй, главное, что нужно знать о доверии к обещаниям властей со стороны семейных граждан.
Марина живет в пестренькой десятиэтажке на краю спального микрорайона Саратова. Дом — последний по улице. Дальше — пустыри, гаражи, серые трубы ТЭЦ. Микрорайон строился в последнее десятилетие.
Согласно современным нормам в подъездах и магазинах сделали пандусы, в каждом дворе поставили детскую площадку.
Но это вовсе не значит, что мама с коляской может пользоваться свободой передвижения в любое время года.
Зимой на эти площадки коммунальщики сбрасывали снег, полностью завалив горки, качели и поломав ограждения. Тем не менее улицы не стали чище, и маршрутки не могли проехать в микрорайон. По обочинам лежали такие сугробы, что на пешеходных переходах жители вырубали ступеньки в снегу топором, иначе было невозможно перейти дорогу.
Открывая дверь, Марина прикладывает палец к губам — в комнате спит двухлетний Сережа. Приглашает на кухню, предлагает кофе.
Прошу чаю, но слишком поздно понимаю, как это бестактно с моей стороны: ведь чая нет не потому, что он случайно закончился. Состояние семейного бюджета не предполагает возможности выбора напитков.
У Марины — высшее техническое образование, большой опыт работы и 835 тысяч рублей долга за ипотеку. До кризиса Марина работала на крупном складе печатной продукции, отвечала за логистику. Зарплата была достойная, и Марина решила купить собственное жилье. «До этого мы с дочкой, мамой и братом жили вместе. Хотелось простора. И я замахнулась сразу на двушку».
Три года Марина отдавала банку по 15 тысяч рублей в месяц. А потом потеряла работу. Пыталась продать квартиру, чтобы погасить кредит и купить себе хотя бы комнату. Но банк не согласился и подал в суд. «По закону ипотечное жилье имеют право отобрать, даже если оно единственное. Никого не интересовало, где после этого будет жить ребенок».
Служба судебных приставов по неизвестным причинам два года не выставляла квартиру на торги. За это время цены на недвижимость в Саратове сильно упали. Квартира ушла за копейки, едва покрывшие половину задолженности перед банком. Кроме того, накопилось около 30 тысяч рублей долгов по ЖКУ и налогу на имущество. Оплатить их должна Марина.
«Мама взяла дочку на дачу, пока я искала работу.
Питалась водой и хлебом в прямом смысле. Устроилась на склад бытовой техники. Ходила на работу и обратно пешком, час утром и час вечером, денег на маршрутку не было.
Мне повезло: пораньше выписали аванс».
Приставы списывали с банковской карты 50 процентов поступлений, в том числе и детские пособия. «По закону отбирать пособия нельзя, но сначала придется доказать, что ты не верблюд.
Каждый месяц брала выходной за свой счет, собирала справки, подтверждающие, что это — именно «детские» деньги, ехала на другой конец города в отдел ФССП, писала заявление, шла к начальнику. Удержанную сумму возвращали.
А через месяц происходило то же самое».
Бывший муж Марины задолжал больше 700 тысяч рублей по алиментам. Но он работает неофициально, и найти его приставы не могут.
«Я и руководству федеральной службы приставов писала, и президенту в прошлом году отправляла СМС на прямую линию. Никаких ответов. Ну ладно, переболело», — машет рукой Марина.
«Хватает на супчик»
Окраина Саратова, где живет Марина. Матвей Фляжников / для «Новой»
Мама собеседницы предпочитает смотреть Первый канал, где часто рассказывают о государственной любви к детям.
«Я никакой поддержки не чувствую», — пожимает плечами Марина. Сейчас ее семейный бюджет выглядит так: 1550 рублей детских пособий и льготное питание в школе на 22 рубля в день. «Хватает на супчик.
Когда деньги есть, доплачиваем, и дочка может взять второе или булочку».
В 2017 году, когда родился сын, Марина обратилась за материальной помощью в областную думу. «Дали 10 тысяч рублей. В мае 2018-го обратилась опять. Назначили 4 тысячи. Выплатили в декабре, потому что нашего депутата «закрыли».
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала положена только на детей, родившихся начиная с 1 января 2018-го. «На сертификат можно было бы купить комнату в коммуналке и сдавать. Но до достижения ребенком трех лет это можно сделать только через ипотеку. Так что еще год бумажка будет просто лежать в шкафу».
На учебники для дочки нужно 5 тысяч рублей в год (по закону учебники должны предоставляться бесплатно, в реальности школьной библиотеки хватает не на всех). Еще столько же — на канцтовары и форму.
«В благотворительный фонд родители сдают по 300 рублей в месяц. Я отказалась. Мне сказали, что руководство школы знает, как работать с теми, кто не платит. Не уверена, есть ли тут связь, но после этого Катерина скатилась на тройки».
«Как я вижу перспективы дальнейшего образования детей? Пока никак, — вздыхает Марина. — Дочка хочет стать поваром, как бабушка. Выбирает колледж, надеется, что сумеет поступить на бюджетное отделение. Нанять репетиторов мы не можем. Она сама находит в интернете бесплатные видеоуроки».
«Хорошо, что у нас много родственников. Они помогают продуктами». На вопрос о семейном меню собеседница отвечает крылатой фразой о стабильной цене макарошек. «Картошка, курица, иногда бабушка покупает бананы.
Сыну в поликлинике дают рецепт на бесплатные растворимые каши. Это очень выручает. Новую одежду позволить себе мы не можем. Носим то, что отдают подруги, у которых дети старше моих. За коммунальные услуги платит мама.
Она на пенсии, но продолжает работать».
От вопроса о культурном досуге Марина устало отмахивается. «Уже забыла, когда была в театре или кино. Я об этом даже не думаю. На повестке дня — только насущная проблема: что мы будем завтра есть».
Спрашиваю, где Марина берет силы, чтобы не впадать в уныние? «Только в детях», — женщина рассказывает, какой заботливой растет Катя, умеет и накормить, и уложить брата. Вместе с дочкой Марина отвозит одежду, из которой Сережа вырос, в городской центр помощи семье и детям — там раздают вещи тем, кому живется еще труднее.
«Хуже всего — постоянное чувство вины перед детьми, — говорит Марина, упершись взглядом в чашку с цикориевым напитком. — Это надо просто перетерпеть. Я выйду на работу, и будет полегче».
В декрет собеседница уходила с должности сотрудника управления соцзащиты. Ее зарплата составляла 11 800 рублей.
Чтобы вернуться на работу, нужно устроить Сережу в детский сад. На очередь Марина встала, когда сыну было полгода. «Но мы постоянно отодвигаемся назад. Вот смотрите, — она листает на мобильнике скриншоты электронной очереди, — в январе мы были 144-е.
В феврале — уже 179-е». Собеседница отправила саратовскому губернатору письмо с просьбой объяснить математический феномен. В приемной пообещали ответить через 30 дней.
Президент в послании Федеральному собранию назвал проблему с детскими садами решенной «практически повсеместно». «Не знаю, какой город имелся в виду, но в Саратове как 14 лет назад мы не могли устроить дочку в садик, так и сейчас не можем».
В нулевых, вспоминает Марина, проблема с устройством Кати решилась при помощи материальной стимуляции заведующей детсадом и покупки игрушек в группу.
Марина пытается найти подработки. «Выходила ночным кассиром в супермаркет. Платят 690 рублей за смену. Но ведь, придя домой, я не ложусь отсыпаться, а целый день бегаю за двухлетним ребенком.
Работать на следующую ночь физически невозможно. Занимаюсь уборкой квартир, сдающихся посуточно. За это платят 100 рублей, с мытьем полов — 200. От безысходности пойдешь и на такие деньги, чтобы хватило на хлеб и молоко.
Но заказы случаются нерегулярно».
«Не те деньги, из-за которых стоит спорить»
Матвей Фляжников / для «Новой»
Любопытно сравнить, сколько региональный бюджет тратит на поддержку семей с детьми и сколько — на комфорт государевых мужей.
Право на детское пособие имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума (8599 рублей в месяц). Базовая выплата составляет 430,53 рубля на ребенка. На детей одиноких матерей — 861,06 рубля. На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; на детей военнослужащих по призыву, на детей из многодетной семьи — 645,80 рубля.
В феврале региональное правительство объявило аукцион на покупку фотоаппарата для пресс-службы губернатора за 620 тысяч рублей.
Как объяснили чиновники, дорогая камера нужна для освещения визитов Валерия Радаева в районы области, «фотоматериалы пресс-службы надлежащего качества используют средства массовой информации, издательства, вузы, предприятия, учреждения». В результате аукциона цена была снижена: технику приобрели за 383,8 тысячи бюджетных рублей.
19 миллионов рублей в этом году будет стоить обслуживание губернаторского вертолета.
По словам управляющего делами областного правительства Павла Точилкина, Ми‑8 использовался, в частности, нынешней зимой, когда автомобильное движение в регионе было парализовано из-за аномальных снегопадов.
Разумеется, областные чиновники летали на нем не потому, что не хотели стоять в одной пробке с простыми саратовцами, а «для решения оперативных вопросов по очистке дорог».
80 миллионов рублей в нынешнем году планируется потратить на ремонт зала заседаний и гардероба областного правительства.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
По официальным сведениям, доход губернатора за 2017 год (более свежие сведения пока не опубликованы) составил 5,7 миллиона рублей (то есть около 470 тысяч рублей в месяц). По подсчетам Саратовстата, средняя зарплата в регионе составляет сейчас 26 047,4 рубля.
По сравнению с тратами исполнительной власти представители законодательной ветви выглядят почти аскетично. Например, на празднование 25-летнего юбилея областной думы решено потратить 1,5 миллиона рублей.
Деньги пойдут на оплату звуковой аппаратуры для торжественных мероприятий, буклеты, открытки, а также канцелярские товары с праздничной символикой.
Во время обсуждения вопроса на заседании думы депутаты отметили, что 1,5 миллиона — «не те деньги, из-за которых стоит спорить».
Источник: https://novayagazeta.ru/articles/2019/04/17/80253-te-dengi-i-ne-te